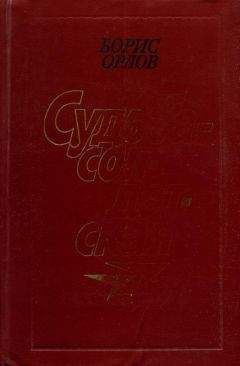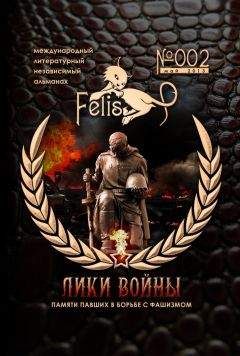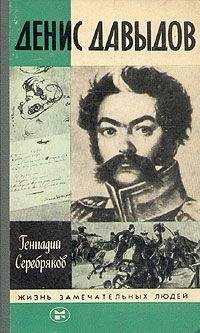Сбросив с плеч вещевой мешок, Батя расправил бороду, поглядел на затянутое облаками небо и сказал, показывая на речушку посиневшим от холода пальцем:
— Теперь каждый раз, как умываться, всем обтираться водой, а кто не может сам, того обтирать. Распределитесь. Закалимся чуток за дорогу-то. — И распустил отряд, велев готовить ночлег.
Выбившаяся из сил Настя как стояла, так и села на полугнилой ствол ели, прораставший кукушкиным льном. Чеботарев наклонился над ней. Спросил, понимая все и так:
— Ты что?
— Какая тут закалка! — вместо ответа сказала Настя, подрагивая от озноба. — Потом… завтра фронт, а там и пути конец.
— Надо же как-то вдохнуть в нас силы! — прошептал первое, что взбрело в голову, Чеботарев.
Поставив возле Насти свой пулемет и мешок с дисками и скудным пайком, он пошел в ельник за хворостом. Бродил по непролазной чаще, сухой, темной и колючей. Насобирав охапку, вернулся и стал разводить костер. Долго выбивал кресалом искру. Обернувшись, посмотрел на полянку из-за мохнатых веток ели. На полянке уже горели костры, и люди, скидывая с себя одежду, сушились, грелись. Петр поглядел на Настю и почти приказал ей:
— Раздевайся. Тут тебя не видно. Высушись и согрейся. Я прикажу, чтобы сюда не ходили. — И пошел на полянку.
Раздевшись почти донага, бойцы сушили перед огнем мокрые рубахи, портянки, нижнее белье, пиджаки, фуфайки… Это зрелище напоминало скорее стоянку первобытного племени, загнанного сюда судьбою, чем место, где остановились на отдых люди двадцатого столетия.
Смотреть на людей было страшно. Перебинтованные тряпьем, отощавшие до костей, они жались к огню и друг другу, чтобы согреться, высушиться, прийти, наконец, в себя. Томил голод, и некоторые тут же грызли лепешку или, чуть обогрев в углях, полусырую картофелину. Это все, что Батя выделил каждому на ужин.
К сумеркам, когда костры прогорели, а люди немного просушились, начали разбрасывать горячую землю. Стлали на нее влажный мох и ложились на устроенную лежанку, укрывшись фуфайками, пальто. Тут же почти засыпали, радуясь обжигающему парному теплу, идущему от земли.
Проснулись засветло. Продрогли.
— Ну как, орлы? Слышали вчера мое указанье? — рассмеялся Батя и направился к речке, чтобы искупаться.
— Мы как-нибудь так, — поглядев ему вслед, бросил Семен и свел все к шутке: — Перейдем фронт — там таких условий не будет, а с привычкой бороться трудно.
И бойцы смеялись этой невесело сказанной шутке. Смеялись, потому что человеку свойственно, когда есть надежда, простодушно смотреть на жизнь, и даже когда нет надежды, верить и надеяться. А с верой, надеждой он вдвое, втрое сильнее и нет ему, такому, преград. А эти люди верили, надеялись: они знали, что к вечеру, а не к вечеру, так через сутки, двое, четверо, преодолев всякие на пути трудности, доберутся до фронта, до своих.
И эта шутка, как Батю речная стынь, приободрила людей, оживила как бы. И пошли они, растянувшись, по узкой, протоптанной зверем тропе. Горевшие надеждой глаза смотрели вперед сосредоточенно…
Перед полднем, когда должны были сделать большой привал и обедать, Батя, сравнявшись с Чеботаревым, тихо сказал ему, что норму питания надо уменьшить.
— Сколько дней пройдем до фронта, неизвестно. А лепешка лишняя, она не груз.
Остановились на берегу озерка, у полуразваленной сторожки. Батя, не распуская отряд, строго приказал:
— Съесть по трети лепешки и по картофелине, а потом можно попастись на ягодах. — И повысил голос: — Что в мешках, все ваше. А запас иметь надо. Еще идти…
Батя смолк, запнувшись на слове.
И все поняли, что он не знает, сколько им еще идти. У некоторых появилась на лице растерянность… Но идти было нужно, это понимал каждый.
Когда поели, а Настя поправила у раненых повязки, Батя почему-то всех заторопил. Не «попаслись» и на бруснике.
Пошли. Батя впереди отряда, поодаль от дозорных. Часто оборачивался и, когда видел, что кто-то отстает, передавал по цепочке:
— Скажите, пусть подтянется. Есть же у него воля!
И человек, услышав эти слова, начинал чувствовать, что и правда у него есть воля, и шаг его удлинялся.
В одну из таких минут, поглядывая в немного сутулую спину Бати, Чеботарев вдруг понял, что командир отряда уже не походит на того человека, каким он был раньше, до выхода на Большую землю. Да, это был уже другой Батя — преображенный, думающий лишь о бойцах да о том, как выполнить в этих сложных условиях приказ командования лужских партизан. Своей спокойной решимостью Батя теперь чем-то напоминал погибшего при переправе через Лугу комиссара Ефимова. Говорить он стал совсем мало, но когда говорил, то в его голосе звучала железная непоколебимость — она виделась и в лице тогда, во взгляде…
Когда оставалось километров шесть до шоссе Ленинград — Луга, впереди послышалось коровье мычание.
Отряд сразу остановился. Рассыпались по кустам и болотным кочкам. Шагавший в голове отряда Батя прижался к мохнатой ели. Чеботарев, выбегая вперед, приказал Семену выяснить у головного дозора, в чем дело. Тот, выбросив перед собой автомат, бросился по тропе. Вскоре он вернулся. Не дойдя до Бати, остановился; размахивая своей старенькой серой шляпой, прокричал:
— Колхозные коровы. Бродячее стадо.
Все поднялись. Вышли к поляне, заросшей пыреем, желтым и жестким у корней, но зеленым и мягким сверху — будто была весна. В траве лежали, пережевывая жвачку, коровы.
Дозорные уже беседовали с высоким стариком. Когда к ним подошел Батя, старший боец объяснил:
— Гнали на восток, да не успели. Вот и крутятся здесь.
Батя протянул старику руку, а сам поглядывал на шалаш, возле которого стояли две женщины средних лет.
— Пораньше бы надо отправиться, — сильно окая, степенно говорил старик, посматривая то на коров, то на скучившийся отряд. — А начальство надежду проявило: дескать, дальше фашистов не пустят. Потом хватились, погнали, да поздно уж стало… и караван-то не скороходный больно… Теперь ума не приложу, что поделать. Послал сына в деревню. Пусть посоветуется с колхозниками… Подумаем, может… коров-то жалко — холмогорки. А вот-вот зима. Что тут делать с ними?
Робко поглядывая на партизан, подошли женщины.
— Исхудали вы как! Лица нет… — вымолвила одна.
Батя лукаво оглядел сгрудившихся бойцов и, подмигнув в сторону стада, проговорил:
— Пожалуй, правда, исхудали, а? Может, нам поправиться чуток здесь? Путь впереди не короткий. Как думаете, силы нужны будут? — И посмотрел старику в глаза: — Да и вам одна обуза теперь эти коровы. А гитлеровцам отдавать это добро — преступление.
Старик теребил бороду. Посуровел.
— Жалко, конешно, — выдавил он с трудом из себя. — Да уж лучше погубить, чем в руки германца. Это верно. Мы так и порешили.
Он отобрал для отряда коров. Женщины по просьбе Бати принесли большой кусок каменной соли. Поблагодарив их, Батя повел отряд дальше — не хотел останавливаться у стада. Отобранный скот гнали за отрядом. В полукилометре от стада наткнулись на удобное для привала место и остановились. Заколов скотину, стали варить мясо. Запах его дурманил, опьянял.
Этот ранний ужин получился на славу. Омрачала его лишь Настя: она ходила от бойца к бойцу и требовала:
— Помногу не есть. Вы с голодухи. Может быть и заворот кишок, а это… смерть.
Обойдя всех, Настя села возле Семена и Петра. Она откусывала мясо от куска по малости и, смакуя, жевала его. Перед тем как Петр хотел подняться и идти подменить постовых, сказала:
— Сейчас бы еще хлебца из печи, горяченького!
Семен, тоже уже поевший, засмеялся.
— У вас, барышня, аппетит не по обстановке, — проговорил он и съязвил: — Может, вам сень[23] подать?
Перед сном Чеботарев отозвал Батю в сторонку, к небольшой выямине с водою. Объяснил, что переходить шоссе и железную дорогу Ленинград — Луга без предварительной тщательной разведки места нельзя.
— Я сам завтра с утра пойду, — сказал он с такими нотками в голосе, что возражать против его решения было бы бесполезно.
Договорившись обо всем, они пошли спать. Уже темнело. На небе показывались звезды. Становилось холодно. Бойцы спали на общей под елями лежанке. Батя и Петр нашли место сбоку. Батя вздохнул:
— Выйдем, думаешь, до снега?
Сказал тихо, и так же тихо Петр ответил:
— Кто его знает, как все пойдет.
Они легли. Когда укрывались, к ним пришла и, растолкав их, легла между ними Настя. Послышался насмешливый голос Семена:
— Побудем еще так — отвыкнешь, что баба. Обличье мужика примешь.
— Не приму, — обиженно и в то же время стыдливо проговорила в темноту Настя. — Что же мне, подыхать, если я одна среди вас, мужичья?!
Утром, позавтракав, в отряде начали варить, круто посолив, на дорогу мясо.